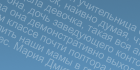(Скопировано со старого форума.)
Зная довольно сомнительное отношение администрации сайта к элементам порнографии, насилия и употребление мата, решил выложить рассказ, который давно вертелся у меня в голове, но никак не был напечатан. Дописал его только что, поэтому успел прочитать всего два раза (это к вопросу о правке) Самый обычный рассказ с довольно незамысловатым сюжетом. И непривычно объемный, во всяком случае для меня
Непосильная мысль
Пантелей Никифорович обтер ладонью покатившийся пот, шмыгнул сопливым носом, втягивая образовавшиеся сопли; с трудом, почти с животным нервом отодрал кусок ростбифа, сжевал левым зубком оливок, с удовлетворенным видом распластавшись на стуле.
В этом богатом доме, за этим широким столом, да с этими добротными угощениями, при атмосфере святости и скромного блаженства, его приятнейшая, благодушевная семье, состоящая из душки жены Варвары Венедиктовны, пышногрудой дочери Анны и сынишек – близнецов Ивана, да Степана имели честь и удовольствие отмечать именины этих самых чудных сынишек-близнецов. По пять годков на каждого пришлось.
За столом не в счет хозяев сидела Василиса Григорьевна с мертвецки выбеленным лицом, что взглянуть на нее страшно. Глянешь на ней – али смерть сама явилась. Глаз зоркий, взгляд острый, жутью от того взгляда веет, нехорошим вокруг наполняется. Губы вечно поджаты, злобно так, коли сам дьявол пред тобой явился, будто в какое мгновение – прыг на тебя, да глаза выколет, да лицо до кровушки исцарапает, али вообще кровь из шеи высосет.
Муж ее подле сидел – Василий Петрович. Смиренно сидел, кажись, даже боясь чего, от испуга глаза бегают туды-сюды: «юрк» - «юрк», да руки потливой мокротой покрываются, да пальцами таки перебирает–перебирает нервено, а тело то не шелохнется, как сковано.
Василий Петрович мелким чиновником приходится. В какой конторе он работает, да у кого в подчинении чтится – это никто не знать, да и нет в том никакого людского интереса, что бы мужики тому завидовать смели, а бабы сплетни, да разговоры распускали. Видать, небольшой чиновник, совсем маханький, видать, из низших, что от чиновника один только статус имеется и более ничего существенного. Безликий, право сказать человек этот Василий Петрович. Слова много не молвит, только что жене ответит со страху, да кряхтит-сопит неприятно; дышит хрипло и громко, видать, что с дыханием у него не в норме, видать, легкие сбились от курения чрезмерного.
Василиса Григорьевна на него бывало, как прикрикнет голосом своим резким и высоким, али по темечку несильно стукнет – так он глаза свои и без того круглые округлит, вылупит глаза свои, свиноподобное лицо напряжет, краснеть, да багроветь заставит, да слюну по всему лицу пустит. Коль Василиса Григорьевна на него при чужих так замахивается, да честь и достоинство, какое-никакое попирает, а дома, ведь и розгами, поди наказывает, али кушать месяцами не дает, али к телу своему морщинистому не допускает.
- Славные у вас сынишки – говорит Василиса Григорьевна. Лицо ее словно менее злым сделалось, а в голосе будто услужливые нотки послышались. – Кожа белесая, глаз голубой, ресницы густые, да таки длинные, что на веки ложатся, волос то какой – блестящий кучерявый, переливается то как славно…
Пантелей Никифорович улыбкой показался, довольно вздохнул, от слова сего даже ужин прервал, опустив на тарелку столовые инструменты. Он ведь и сам не хуже других знает, а в общем даже и лучше всякого на свете знает, коли это его кровные дети, да глядит он на них в каждую лишнюю от работы минутку, да наглядеться никак не может. Но коли о том кто со стороны молвит – ему от сего слова дурно не становится, а только приятней на душе делается, сердце греет, да сознание сластит.
- Да и доченька ваша – красавицей несусветной выдалась, погляньте на неё только. Длинноволосая, круглоглазая, пышногрудая – продолжила хвальбу Василиса Григорьевна, тыча локтем сидящего вблизи мужа. Василий Петрович вымолил на себе почти неподдельную улыбку и хрипло выпустил воздух.
- Да, дочка у меня и впрямь славная на вид выдалась – подумал про себя Пантелей Никифорович, вольно разжевывая телятину. – А груди то, груди то каки! Пышны, да мясисты, что из под выреза округлостью наливаются, да на волю стремятся. Я бы таки груди затискал, я бы к таким грудям всем своим лицом прижался, да вдыхал бы жар, что веет от них.
Тут Пантелей Никифорович сам себя одернул, даже за ногу себя же маленько прищипнул.
- Чего это ты старая скотина таки удумала? Чего за мысли в твоей голове образуются? Ведь это доченька твоя родненькая, ведь мысль эта негожая на нее имеет смысл. Ведь не по христиански таки мысли в себе рождать, да развивать для греховной потехи. Да чего уж там по христиански аль не по христиански – не по человечье это! На то человек преобразовался из животного безграмотного и дикого, как мораль, да нормы для себя познал, да ту мораль в люди стал нести и от людей этой морали требовать. А ты, черт старый, таки мысли удумал…
Пантелей Никифорович еще раз стыдливо, да с украдкой взглянул на Анютины груди, облизнулся и грустно так, почти печально вздохнул, соображая в себе всесветную скуку бытия.
- Эх, груди то… - промчалось у него в голове и он стал не нарочно, словно кой черт его на то толкнул, мысль развивать. – А ведь у Варвары и в молодости то не бывать таких грудей. По молодости она вообще так сушенная была, костлявая до слез. Кожа кость обтягивала, будто в любой момент порвется от движения излишнего. Поглядишь на нее – всплакнуть хотелось, да накормить ее чем. Словно недоедала она – така худющая была. А про груди и молвить не стоит. Коль это груди – то у меня по более, да помясистее будет. За место грудей у ней кожа свисала, да соски бледные виднелись. Никаких грудей у ней не было! А ведь нынче баба раздобрела, вес то как прилично набрала. Так набрала, хоть на рынок неси, да продавай, чего она там набрала. Жир свисает, в складки образуется, трепыхается.. Раздобреть – ой как несусветно раздобрела, а грудей как не было – так и не виднеются. Живот свисает вперед от тела, а на груди плоско, словно поляна зачищена. Ни на какие груди намека не образуется.
Пантелей Никифорович несильно прикусил нижнюю губу, дабы обуздать свое блуждающее во зле сознание, глотнул рюмку водки и занюхал хлебушком. Василий Петрович только и взглянуть успел, и огорчиться, надувая от горести порозовевшие щеки. Василиса Григорьевна окинула на него взгляд и Василий Петрович, судя по всему, в тот же миг прекратил думать и о водке и о закуски, и о жизни в целом.
- Варвара, душечка, подай нам чаю с пирогами – мягко подсказал Пантелей Никифорович, сглаживая тем напряженную действительность.
Закончив вечер, Пантелей Никифорович с Варварой, да со всеми тремя детьми, поспешили провожать гостей и махали отдаляющимся в ночи супругам добрым, но усталым помахиванием руки, производя на лицах неподдельные улыбки.
Возвратясь в дом, Варвара Венедиктовна поспешила убирать со стола, а Пантелею Никифоровичу наказала укладывать ребятишек в постель, почитать им сказки перед сном, да поцаловать в лобики на прощанье. То он и поспешил выполнить без всякого укору, а напротив, с пребольшим желанием и любовью.
Прочитав сынишкам сказку, Пантелей Никифорович окутал их пуховым одеялом и со всей присущей ему нежностью, как наказывала жена, поцаловал близнецов в теплые лобики. Он глядел на них не отрывая взора своего и думать не желал ничего окромя лежащих детей. В сей момент ему вспомнились недавние слова Василисы Григорьевны, лицо образовало довольное выражение и светлую улыбку, и Пантелей Никифорович не удержался наклонить голову и одарить сынишек отцовской лаской и поцелуем. Он всматривался в детей упорнее, рассматривая досконально их лица, периодически проявлял на себе улыбку и не переставал думать о их великолепии, вновь обращая в сознании слова Василисы Григорьевны.
На прощанье он погасил лампу и с необычайной осторожностью и заботой прикрыл за собой дверь, удаляясь практически на цыпочках.
Лежа в кровати и ерзая от невиданного напряжения, Пантелей Никифорович не переставал мыслить о ребятишках. Только дума его нынче, была не греющая сердце, как бывала в особенности при мысли о том, а какая-то разрушительно нервирующая и отрицательно возбуждающая. Он решил отвлечься, поглядев на Луну, что тихо освещала комнату, но перед его взором непременно появлялись сынишки, и тело мгновенно окутывало напряжением. Пантелей Никифорович ерзал сильнее, чаще стал перекладываться с одного бока на другой, шмыгать носом, кряхтеть, будто в его горле нечто застряло, вставать с постели и глотать сырую воду, но неприятная и одновременно непознанная мысль не прекращалась в его голове, не отпускала от напряжение его тело.
- Чего это ты, Пантелей? Чего не спишь? Аль у тебя, что-то болит – так ты скажи, я тебе лекарства какого принесу от боли.
- Спи Варвара, ничего у меня не болит, спи родненькая – ответил на то Пантелей Никифорович, да все ерзал и перестилался с одного бока на другой.
Он привстал с кровати и чуждая, да неподконтрольная сила потянула его в детскую спальню, будто его побудительную рефлексию умыкнули каки посторонние силы. Пройдя в комнату, Пантелей Никифорович все так же напряженно вгляделся в сыновне лица, проявляя на лбу задумчивость и морщины, но никак не мог понять причину своего тягостного напряжения и отсутствия всякого спокойствия. И нечто невиданное вселилось ему в душу, что Пантелей Никифорович не пожелал одарить близнецов отцовским поцалуем, а все только всматривался, да всматривался, и только прикрывшаяся дверь окончательно отстранила его взор от ребятишек.
Сон к нему пришел только с рассветом, когда за окном провиделась заря и невиданные птицы заголосили звонкой песней; и только Пантелей Никифорович успев впасть в бессознательное состояние, как Варвара Венедиктовна принялась его теребить, да окликать на работу. Он с трудом разыскал в себе силы и волю, шатко приподнялся с кровати, подтянулся и опечаленно зевнул, проклиная скрытно эту мучительно выдавшуюся ночь.
Спустившись в гостиную к уже накрытому столу, Пантелей Никифорович остановил свой взгляд на Анюте, но его сознание видимо позабыло вчерашнюю постыдную мысль и ничего уже не могла преподнести окромя мысли о Иване, да Степане и того тягостного напряжения, которое эта мысль порождала в его голове, отрицательно заряжая его тело мучительным неспокойствием.
- Бери пироги, Пантелей. Сейчас я тебе чаю налью – добро произнесла жена, улыбнувшись мужу.
Пантелей Никифорович ничего на то не ответил, а если бы и ответил, то обязательно что то неприятное и острое, ибо весь был заряжен раздражением ко всему окружающему.
Всякая еда ему показалась жесткой и сухой и никак не желала лезть в горло, потому он глотал несладкий чай, уставив свой взгляд на сияющих ребятишек. Он все глядел и глядел на них, а уйдя на работу кое как, через силу и вопреки воли поцаловал сынишек в лобики и улыбнулся провожающей жене и дочери.
Работа у Пантелея Никифоровича весь день не шла по плану, как бывало впредь. Руки роняли бумаги и производили ошибки, а он сам был до той степени раздражен, что невольно огрызался сотрудникам и отмахивался от них рукой. На обед Пантелей Никифорович не пожелал идти, а на искреннее приглашение своего друга и коллеги Виктора Федосеевича пройтись в бар и выпить по 100 грамм спиртовой настойки по окончанию служебного дня только и сказал:
- Тебе только пить, да кушать. Ничего более не интересует на этом свете.
Однако, Виктор Федосеевич, человек по природе своей добрый и мягкий, на сея слова не обиделся, объясняя их нехорошим настроением друга, которое завтра обязательно переменится на благое и приветливое.
Пантелей Никифорович по окончанию служебного дня отправился домой в сопровождении смутных мыслей и тягостного настроения, от чего дорога ему показалась непривычно затянувшейся и муторной, а окружающая действительность вселяла в него еще большее уныние и неприятие к жизни. Он взялся по привычке разбирать рабочие бумаги, поверхностно вникая в дело, но в сею же секунду отправил в портфель, дабы не растерзать их в клочья, от довлеющего волнения.
Прибыв в дом, Пантелей Никифорович убедил себя не заглядывать в детскую спальню и уложился в постель на отдых. Варвара Венедиктовна наблюдая таку картину, все же решила поинтересоваться о делах мужа, но Пантелей Никифорович уж не силах был сдержать раздражение и ответил жене на ее интерес обидным укором и повышенным голосом, что впрочем совершенно не было свойственно его характеру. Он лежал неподвижно в кровати, оглядывая потолок, и та терзающая душу мысль о детях не вызывала у него прежнее непоседство, а напротив, сковывало его тело в тисках неподвижности и внешней смиренности.
- Да что не так – отчаянно подумал Пантелей Никифорович. Что за скрытая мысль терзает мою душу и не дает ей спокойствие? – и в ту же секунду он вновь обратил свое сознание на сынишек и думал о том до самого утра, пропустив и семейный ужин и работу с бумагами.
На следующий день он решил не идти на службу, ибо работа и все сущее в жизни ему показалось второстепенным и необязательным, и только свербящая изнутри мысль разрасталась и окутывала Пантелея Никифоровича все больше не тревогой, а ужасающем чувством отчуждения. Он прекратил воспринимать всякую еду, а только изредка глотал сырую воду непонятно для какой надобности, ибо кроме появившейся мысли не чувствовал ни жажду, ни других привычных потребностей.
На вечер, Пантелей Никифорович отказался спускаться на ужин, на что Варвара Венедиктовна сделалась еще более грустной, а нарастающее переживания за мужа заставляли ее излить слезы и нарушить прежнее спокойствие души. Она с надеждой принесла кушанье в спальню, но Пантелей Никифорович не прикоснулся к еде, - только злобно огрызнулся и потребовал отстать и не раздражать его бабьими глупостями.
Ночью он вопреки вторящему разуму и желанию отправился в детскую спальню, что бы смотреть на своих детей и наконец познать причину его терзающих дум. Усевшись на край кровати, Пантелей Никифорович взглянул на сынишек и не испытал никакого прежнего восторженного состояния души, никакой прежней патетики, напротив, он ощутил небывалую ранее чуждость и холодность к своим детям. Он всматривался в их лица внимательнее, и чем больше он глядел на близнецов, тем больше ощущал отсутствия с ними всякого родства, будто лежали перед ним совсем чуждые дети. Он с небывалой злостью вышел вон из комнаты, отправившись в свою постель, что бы посвятить очередную ночь терзающим мыслям.
- Что в них не так? Что? – непрерывно, уже не про себя, а в полушепот вторил Пантелей Никифорович, образуя в глазах горестную слезу.
Он стал мыслить тщательнее и проникновеннее, морщить лоб, тяжеловесно вздыхая от напряжения.
- Голубые глаза, кудрявые волосы, что переливаются сияющим светом… - именно эти слова Василисы Григорьевны проскользнули в сознании Пантелея Никифоровича, сделав его лицо белым от ужаса. Его тело вмиг охолодело и покрылось мелкими мурашками, а сердце заколотилось непрерывными ударами и сжималось в напряжении.
- Не мои это дели, не кровные! Нет у нашенских ни голубых глаз, ни кудрявых волос. Нет! - в пол голоса произнес Пантелей Никифорович. Взгляд его сделался неподвижным и напряженным, губы сжались, а слезы ссохлись на глазах, производя на лице толи злобу, толи чувство непомерной неожиданности. Скорей и то и другое в совокупности.
Пантелей Никифорович резко привстал с постели и быстрым шагом отправился в детскую спальню.
Не приседая на кровать, с чувством образовавшегося отчаяния взглянул на детей, ставших совсем чужими и нелюбимыми.
- Волос кудрявый – уже несколько враждебно подумал Пантелей Никифорович и сжал кулак настолько сильно, что от сжатия того, лицо побагровело, а тело пустилось в дрожь. – И нос курносый. Нет ни у кого из нашенских такого носа. У Варвары тонкий, да с острым концом, у меня с горбинкой, что от отца, да от матери остался – покачал головой Пантелей Никифорович и печально выпустил воздух, свыкаясь с мыслью о чужеродности близнецов.
Всю оставшуюся ночь он не отпускал мысль в голове, а мысль та находилась в сознание, как нечто само собой разумеющееся и имманентное, что привито ему при рождении. Она не вселяла былого ужаса, только несколько печалила Пантелея Никифоровича и выражалась на лице мертвецким безразличием к жизни.
Наутро он вовсе позабыл о работе, да все лежал неподвижно, окутанный печалью и меланхолией, а Варвара Венедиктовна только и вздыхала, да не смела слова молвить. Днем его посетили дети, но только в Анюте он почувствовал, то греющее родство и вселяющее спокойствие, что чувствовал совсем недавно от каждого своего дитя. Когда близнецы потянулись к Пантелею Никифоровичу с ласками, да поцалуями, он лишь погладил их рукой и наказал ступать в свою комнату.
Он хотел было сказать жене о собственных догадках, ставшими для него чрезвычайно точными, но воспоминания о собственных грешках и изменах не позволили укорить жену, а только затягивали его в еще большие и тяготеющие раздумья.
На следующий день Пантелея Никифоровича посетил его коллега по службе и друг Виктор Федосеевич.
- О, друг – добро и с улыбкой воскликнул он, обняв Пантелея Никифоровича. – Чего это ты болеть удумал? Работать надо! – бодро продолжил Виктор Федосеевич.
Пантелей Никифорович счел должным промолчать, но сидящее в нем раздражение выражало неизмеримую ненависть и злобу к гостю. Он только подумал: «Старый инфантильный идиот, чего ты пришел? Потешаться надо мной?», и тут же отвернул голову к стене.
Пантелей Никифорович уже не ощущал ни времени, ни прошедших дней, только сердце стало часто колоть и болезненно сжиматься. От отсутствия питания тело исхудало и поморщилось, щеки впали, и челюсть стала проваливаться книзу. По велению жены Пантелея Никифоровича проведал доктор и выписал дорогие лекарства, которыми Варвара Венедиктовна заботливо поила мужа, но тот их непременно сплевывал и недовольно морщился. Были бы у него хоть каки силы – он наверняка прикрикнул бы на жену, но силы иссякли даже на разговоры, хватало их только что бы дышать и изредка приоткрывать глаза.
В один из дней Варвара сообщила Пантелею Никифоровичу о приезде своих родителей, что вырвались из Бреста, дабы проведать своего зятя и разузнать о его здоровье. На эту новость Пантелей Никифорович тяжело вздохнул и отвернул свой взор к стенке, проявляя тем самым неодобрение или, скорее всего даже осуждение.
Когда Варварины родители приехали, Пантелей Никифорович неизменно располагался в спальне и подумал о том, что не видел тестя и тещу с момента венчания, а значит уж более двадцати трех лет. И только он пожелал продолжить мысль, как в дверь тихонько постучали. Пантелей Никифорович повернулся от потолка, болезненно приподнял веки. Пред ним стояла старая женщина в бежевом старческом платье с расшитыми по краям рюшками и не менее старый мужчина, с седой кучерявой головой и поблекшими голубыми глазами.
Пантелей Никифорович удовлетворенно улыбнулся и в тот же миг прекратил существовать.